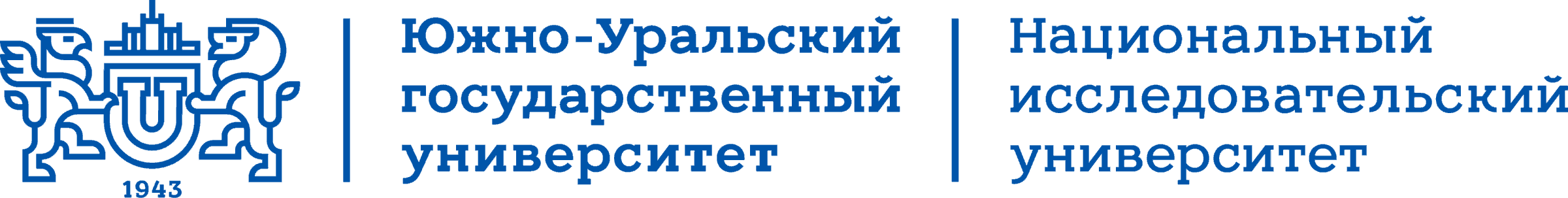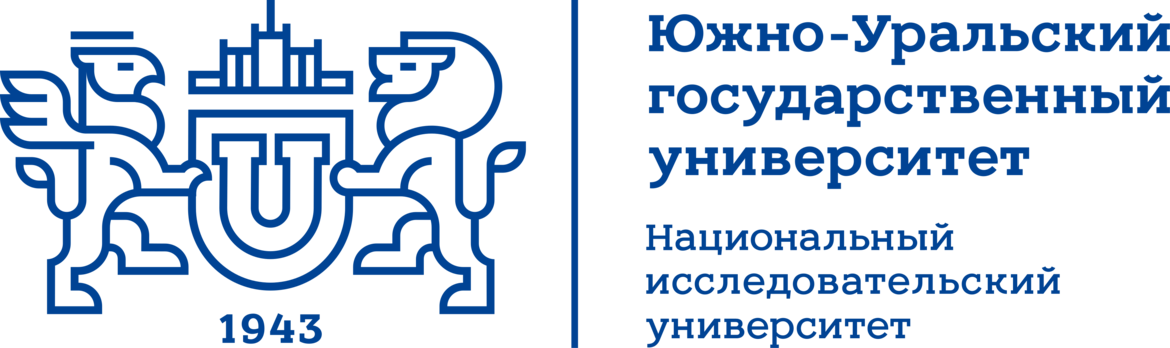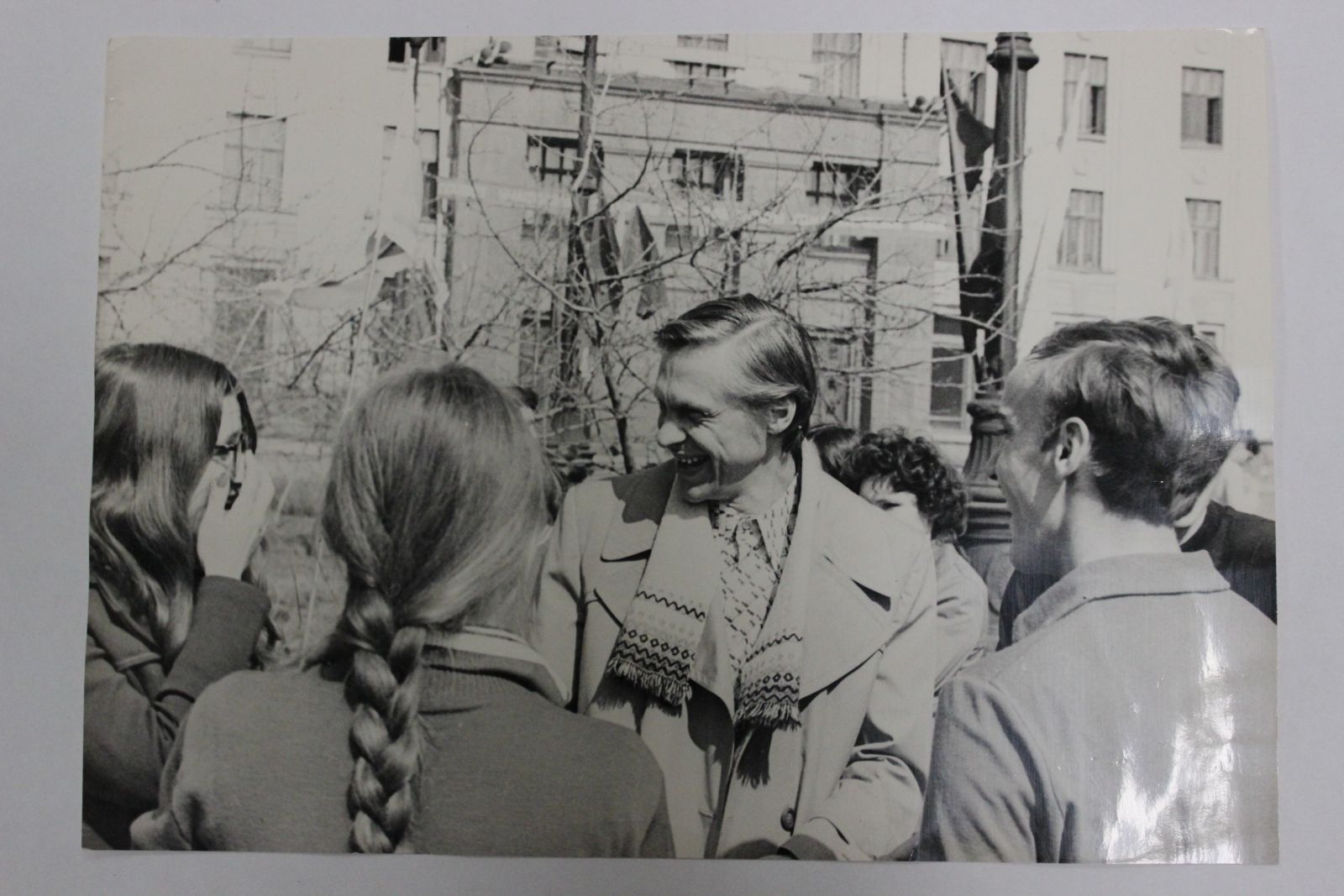Первого октября – Международный день пожилых людей. ЮУрГУ уважает, чтит и помнит своих ветеранов, тех, кто много лет отдал университету, обучению студентов. Летом 1941-го жизнь советского народа раскололась на «до войны» и «после войны». Но как враг ни старался, он не смог убить в людях, детях желание творить, учиться, радость жизни! В грозные военные годы ветеран ЮУрГУ Юрий Хищенко был дошкольником. Он рассказывает о своей жизни.
– Родился я в Челябинске 5 декабря 1937 года. В 1939-м мы переехали на Дальний Восток, в город Ворошилов (до революции – Никольск-Уссурийский, а ныне – Уссурийск в Приморском крае), – рассказывает Юрий Михайлович. – Отец мой, Михаил Алексеевич Хищенко, и мать, Таисия Алексеевна, урождённая Киреева, едва окончив школу, стали работать в Управлении железной дороги, то есть в структуре, которая занимается организацией, контролем, учётом перевозок грузов, вагонов. Попали они туда по так называемому комсомольскому призыву – была в СССР такая практика, когда комсомольцев-добровольцев направляли в те отрасли или регионы, где не хватало рабочих рук.

Жили мы в Уссурийске недалеко от железнодорожного депо, в построенном из бруса двухэтажном доме на восемь квартир. Из удобств только электричество. За водой ходили на водокачку. Туалет – общественный, на улице за домом. Баня – общественная. В квартире две комнаты и кухня, печь – голландская, круглая, кирпичная, обитая чёрным металлом. Топили её углём, благо что родители работали на железной дороге – и им уголь выписывали. У каждой семьи во дворе стоял свой угольный ларь.
Родители, конечно, старались нас накормить, одеть, обуть. Хотя в ту пору со снабжением, конечно, было туго. Одежду мы не носили, а донашивали. Как правило, какие-то вещи перелицовывали, то есть меняли местами изнанку с лицевой стороной, затем перекраивали, перешивали – и снова носили. Помню, летом ходил в сандалиях, осенью в ботинках, а зимой в валенках.
Мама хорошо вышивала. Вышитые вещи продавала, а на вырученные деньги покупали, например, масло.
Хлеб был по карточкам. Чтобы прокормиться, многие, в том числе мы, держали подсобное хозяйство. У каждой семьи было по два огорода: один у реки, другой на возвышенности. Если засуха – так у реки хоть что-нибудь да вырастет, а река разольётся – так уцелеет урожай там, где повыше. Сажали картошку, капусту, даже кукурузу и пять или шесть подсолнухов. На зиму делали, как все, заготовки. Кроме того, давали паёк. В войну в него, в основном, входил шрот – это круги спрессованной сои. Говорили, что в Америке этим скот кормят – а тут нам присылали. Мы из этой сои варили кашу – и ели. Порой перепадали и консервы, иногда плавленый сырок, бывали даже и крабы – это же Дальний Восток, море близко, там их ловили.
Я ходил в детский сад. Это было одноэтажное деревянное здание, не очень большое. Да и детей, по правде сказать, было не очень много. Кормили нас там, в принципе, неплохо. Давали разные каши, супы. Манную кашу ели с удовольствием. Мяса не припомню – а вот картошка была, это точно. Иногда по праздникам, за хорошее поведение, давали по конфетке-подушечке.
После войны карточки отменили, но очереди за хлебом помню. Все держали в клетушках какую-нибудь живность – на мясо: кто кур, кто кроликов, а мы – поросенка. Помню, летом бегали купаться на речки – Раковку и Супутинку. Нам за это крепко влетало: идти было довольно далеко, да ещё и по железнодорожному полотну.
О том, что началась война, родители узнали, когда были на работе, а я – в детском саду, кажется, нас собрала и объявила об этом воспитательница. Война стала тяжелейшим, жесточайшим испытанием для нашей страны, нашего народа. Конечно, нам было легче – мы находились в тылу, а я был ребёнком. Но вспоминать о войне всё равно тяжело.
Отца, как железнодорожного служащего, не призвали. А его племянник Александр был танкистом, участвовал в Курской битве. Знаю, что как-то раз его танк угодил в засаду, под вражеский обстрел, и из-за некачественной сварки разошёлся шов на броне. Что делать?! В следующем бою командование поставило его танк с фланга, чтобы меньше страдал от вражеского огня.
Вместе со взрослыми я регулярно слушал сводки новостей – чёрная тарелка репродуктора висела у нас дома. Конечно, мы вместе со всей страной переживали тяжёлый период отступлений, радовались победам – особенно когда объявляли, что Москва салютует героям. Хотя, конечно, мы со сверстниками были ещё малы, далеко не всё понимали, читать не умели, но между собой в детском саду говорили о войне – пересказывали, что услышали по радио или от взрослых.
Хотя и шла война, взрослые старались как-то скрасить наш быт, чтобы мы не были лишены радостей детства. Да и самим им хотелось хоть какого-то роздыха, отдушины. Поэтому на Новый год и дома, и в детском саду ставили ёлку. Возможно, ёлки привозили по железной дороге, так как хвойных лесов вокруг не помню – в основном, берёзы да тополя. Ёлочные игрушки, хлопушки, гирлянды – всё делали сами: вырезали из бумаги, склеивали. Клейстер – клей – взрослые варили сами. А вот Деда Мороза и Снегурочки не было.
Дедушка – отец мамы – в своё время работал машинистом на паровозе, водил поезда от Ростова-на-Дону на Кавказ, в Чечню. Жил дед в Путивле – это на Украине, в Конотопском районе Сумской области – и в войну оказался в оккупации. Помню, в 1944 году, когда фашистов оттуда прогнали, дед прислал письмо, в котором просил маму его навестить. Мама взяла отпуск и поехала к нему вместе со мной.
Пока ехали поездами по освобождённой от фашистов земле, видели многое, что натворили захватчики. Всё это оставило неизгладимое впечатление. Я ещё был довольно мал, но точно помню сильно повреждённые и вовсе разрушенные вражескими бомбёжками и артобстрелами дома. Так было и в Путивле. Там же, помню, видел наш эшелон с танками, шедший на фронт.
Через дорогу от дедушкиной избы стоял одноэтажный каменный дом. Дед говорил, что там размещался штаб прославленного полководца Рокоссовского. Что интересно: когда немцы бомбили город, то от дедушкиного домика уцелели только ворота и лавочка перед ними – а каменный дом остался цел. Хотя, наверное, немцы знали или предполагали, что там находится штаб. Дед, конечно, горевал. Рассказывал, что сам Рокоссовский его утешал примерно так: «Не горюй, мы вернёмся и всё отстроим заново! А сейчас надо бить врага». К сожалению, никто дедушкин дом так и не восстановил.
В Путивле, конечно, жилось голодно. Помню, как дед говорил мне: «Пойдём по куски» – и мы шли в гости к соседям, уцелевшим в период немецкой оккупации. Там я читал стихи, пел песни – и мне давали кто кусок хлеба, кто яблоко. Тем и питались.
Помню, как мы ехали домой в вагоне-теплушке с военными. Один из офицеров ночью страшно кричал. Его сослуживцы пояснили, что он был сильно контужен и с тех пор кричит во сне – «ходит в атаку».
Незабываемый, самый радостный, самый светлый день – когда кончилась Великая Отечественная война. Помню стихийные народные гуляния, когда услышали весть о Великой Победе. Это было абсолютно без всякой команды, по зову сердец. Подобное ликование я видел ещё раз только однажды – когда Гагарин полетел в космос.
Когда началась война с милитаристской Японией, помню, как на восток шли эшелоны с военной техникой, укрытой брезентом. Конечно, нам никто не говорил, что будет война с этой союзницей гитлеровской Германии, но об этом все догадывались. Раз война, то вскоре появились и раненые, для них устроили госпитали, в том числе и в нашем городе. Поскольку в сентябре 1945 года в школу меня не взяли (полных семь лет исполнилось только в декабре), я продолжал ходить в детский сад. И меня вместе со взрослыми как бы «командировали» в один из таких госпиталей. Там я выступал перед нашими бойцами и командирами: читал стихи, пел песни. Страшные картины до сих пор стоят перед глазами: раненые, изувеченные, обгоревшие солдаты – конечно, мне всех их безумно жаль. На всю жизнь в память врезалось: сидят рядом друг с другом двое раненых. Забинтованы оба с ног до головы, одни глаза видны. Что у одного, что у другого – только одна рука цела, поэтому они аплодировали так: один хлопал своей ладонью по ладони другого. Помню, что я читал стихи про машиниста, который вёз фашистов и нарочно устроил крушение поезда. А ещё я пел такую песню:
Был я ранен, лежал в лазарете,
Поправлялся, готовился в бой,
Вдруг приносят мне в сером пакете
Замечательный шарф голубой.
А кругом раздавали подарки.
И казалось, что лучшего нет:
От колхозницы или доярки
Получил я и шарф, и привет.
Я на крыльях мечты улетаю
И к тебе непременно вернусь.
Дорогая, тебя я не знаю,
На тебе непременно женюсь.
Через месяц мне почта прислала
Долгожданный желанный ответ.
Мне подруга моя написала:
«Милый мой, мне уж 70 лет!».
Похожие варианты песни я встречал. Но именно такого, к сожалению, не нашёл, сколько ни искал. Поэтому, пользуясь случаем, хочу, чтобы текст был опубликован – и сохранился для будущих поколений.
Вообще после войны было много раненых, искалеченных фронтовиков – они до сих пор стоят перед глазами. Особенно врезались в память безногие, передвигавшиеся даже не на инвалидных креслах или костылях, а на дощечках с колёсиками, – таких звали «самоварами».
Помню, как после победы над милитаристской Японией шли эшелоны, груженные трофейным оружием – его везли на переплавку. Там были и пулемёты, и винтовки, и сабли. Конечно, нас, детей, к вагонам не подпускали. Но если взрослых рядом не было, мы забирались на платформы, с увлечением всё рассматривали и играли этими трофеями.
В школу я пошёл в 1946-м. Помню красное кирпичное двухэтажное здание. Когда я учился в седьмом классе, родители решили вернуться в Челябинск. Написали ходатайство – и им разрешили. Сначала мы переехали в Златоуст – там школа была прямо у вокзала. Потом уже перебрались в Челябинск, где я учился в школе № 10. Наверное, многие её знают: возле мечети и бывшей табачной фабрики. А раньше рядом был ещё и таксопарк, где во время войны на грузовики ставили направляющие для реактивных снарядов знаменитых «катюш». Я всегда учился хорошо, быстро осваивался на новом месте. Любил литературу, географию, историю, математику – алгебру, геометрию. Помню некоторых своих учителей. Зоя Арсеньевна вела литературу, Эсфирь Исаевна – математику. Нередко в школе № 10 у нас вели уроки студенты-практиканты из пединститута, они работали с энтузиазмом – и стремились этот энтузиазм передать нам. Школу я окончил с серебряной медалью. Куда поступать – долго не раздумывал. Раз хорошо знал математику, выбрал Челябинский политехнический институт. Вот только со специальностью не определился. В ту пору ректором был Алексей Яковлевич Сычёв. Кто с медалью окончил школу, тех направляли к нему на собеседование, во время которого я как-то между делом в ответ на какой-то его вопрос возьми да и скажи: «Артиллерия – бог войны». Алексей Яковлевич пояснил, что артиллерии в ЧПИ нет, но предложил мне поступить на механико-технологический факультет на специальность «Прочая» (название для конспирации, на самом деле связана она была с пороховыми и реактивными снарядами). Согласился. Деканом МТ тогда был Константин Андреевич Еськов. Меня зачислили в группу 105, потом назначили старостой. В 1957 году в ЧПИ был создан механический (будущий аэрокосмический) факультет – в его состав перевели и несколько групп МТ, в том числе и нашу. Так мы оказались третьекурсниками новообразованного факультета. Первым деканом МХ был Николай Иванович Слесарев. Учился я с удовольствием. Вуз окончил с отличием. Вообще наставники у нас были замечательные. Георгий Данилович Смирнов и Сергей Николаевич Курдин вели «Технологию ракет», «Технологию ракетостроения», «Двигатели летательных аппаратов». Многие преподаватели – посланцы Ленинградского военно-механического института: Георгий Данилович Смирнов, Фёдор Николаевич Салов, Николай Иванович Слесарев, прошедшие войну. Тамара Владимировна Бова тоже была из знаменитого Военмеха. Но, поскольку они стремились вернуться обратно в Ленинград, им нужно было оставить кого-то взамен. Значит, необходимо или приглашать или готовить кадры. Выбрали второе. Предложение работать в вузе, поступать в аспирантуру получили Закамалдин, Мальков, Павлюк, Черноглазов, Титков и я. Причём мне предложили аспирантуру в Московском высшем техническом училище имени Н.Э. Баумана – знаменитой Бауманке. Так я поступил в целевую аспирантуру в Москве. Конечно, увидел там очень высокий уровень и преподавания, и научных исследований, захотелось перенести их дух к нам, в родной вуз, на родной факультет. Понял, что нужно быть на переднем крае прогресса, узнавать самую свежую информацию, целиком отдаваться любимому делу. Необходимо стараться для студентов, стремиться их заинтересовать, увлечь, выявлять лучших.
Моим научным руководителем был Всеволод Иванович Феодосьев – крупный специалист в области прочности конструкций и механики деформируемых систем, в своё время – консультант у самого Сергея Павловича Королёва. Так что информацию нам преподаватели несли самую свежую, можно сказать, с кульманов конструкторских бюро.
В феврале 1966 года защитил кандидатскую диссертацию. Вернулся в Челябинский политехнический институт, много лет вёл занятия, читал в том числе курсы «Конструкция летательных аппаратов», «Прочность ракетных двигателей», «Устойчивость упругих систем». К сожалению, в последние годы уровень подготовки студентов заметно снизился по сравнению с советским периодом. Да и талантливые студенты стали просто подарком судьбы.
Заслуги кандидата технических наук, до недавнего времени доцента кафедры летательных аппаратов Политехнического института ЮУрГУ, декана факультета «Повышение педагогической квалификации», специалиста по учебно-методической работе Института дополнительного образования ЮУрГУ Юрия Михайловича Хищенко отмечены орденом «Знак Почёта», памятными медалями Федерации космонавтики имени Ю.А. Гагарина, академика С.П. Королёва, академика В.П. Макеева.
– В 85 лет ушёл на пенсию, но связи с родным вузом не теряю – без него жизни не мыслю. Стараюсь найти для молодых коллег интересные полезные публикации по специальности. Консультирую, – продолжает ветеран вуза. – На досуге читаю мемуары выдающихся конструкторов ракетно-космической отрасли. Например, в их числе Борис Евсеевич Черток – автор книги «Ракеты и люди». Люблю фантастику. Кстати, прививал мне любовь к чтению дед – мамин отец. Он говорил, что если я не читал Фета и Тютчева, то плохо меня в школе учат. Так что я налегал на учёбу и на книги – читал много, в том числе и в студенческие годы.
Будущую жену, Наталью Михайловну Кордонскую, встретил, когда учился в аспирантуре в Москве. Вообще-то она москвичка, во время войны их семью эвакуировали в Чапаевск. Родители у неё химики, в войну были заняты на оборонном производстве. После Победы её отец трудился начальником цеха на заводе в Киеве. Там она и училась в педагогическом вузе. А однажды поехала в Москву на каникулы. А я как раз учился в столичной аспирантуре. Вот мы и встретились – чисто случайно. Что интересно, брак мы заключили в Киеве – поехали к её родителям. Жена работала у нас в ЧПИ на кафедре иностранных языков – преподавала немецкий. Кстати говоря, языки знать нужно для пользы дела. В советский период, когда Интернет ещё не изобрели, информация не была такой доступной, студенты (и не только студенты) автотракторного факультета гонялись за немецкими журналами про автомобили. Нас же больше интересовали американские, связанные с ракетно-космической тематикой.
У нас с Натальей Михайловной две дочери – Инна и Анна. Одна стала учителем начальных классов, другая – преподавателем немецкого языка. У одной трое детей, у другой – двое.
Трижды мне довелось участвовать в «Вальсе Победы», причём с самого первого раза. Это приятные воспоминания, мне понравилось. Первый раз мы вальсировали с Надеждой Дмитриевной Кузьминой – в то время председателем Совета ветеранов ЮУрГУ. Потом помню, как во время одной из таких акций дети и студенты изображали нас в юные годы, а мы с Надеждой Дмитриевной как ветераны – самих себя в зрелом возрасте. Акция «Вальс Победы» хорошая, правильная: надо помнить о героическом прошлом страны! Остро чувствую связь времён, связь эпох. По моему мнению, СВО, по сути, продолжение Великой Отечественной. Да, теперь многое изменилось, другое оружие, техника. Но война осталась войной! Вдумайтесь: скольких наших сограждан необандеровцы лишили крова, имущества, жизни! Как и тогда, страдают и дети, и старики! Враги у нашей страны, по сути, всё те же, их захватнические планы не меняются. А наша цель по-прежнему – защита Отчизны. Война – и прошлая и нынешняя – это проверка на прочность для каждого из нас. Считаю, что СВО очень чётко обозначила, кто есть кто: кто-то предпочёл сбежать или отсидеться, а кто-то встал в строй и пошёл воевать или помогает нашей армии чем и как может. Сейчас важнейшее для всех нас время, важнейший водораздел. Это проявляется во всём, даже в словах, в том, как ты называешь Россию: для нас она – Отчизна, для убежавших – «эта страна». Надо понимать, что Украина – это часть нашей исторической Родины, Руси, что мы один народ, что нас искусственно разделили, что миллионы наших граждан с распадом СССР оказались за рубежом против своей воли. Считаю, то, что граждане ряда регионов Украины изъявили желание быть вместе с Россией, то, что эти люди и земли вновь с нами – это восстановление исторической справедливости.
Радует, что государство и народ поддерживают участников СВО и после того, как они возвращаются домой, что люди не забыты. Радуюсь нашим успехам. Мы свидетели необыкновенного героизма, мужества, находчивости наших бойцов и командиров, преодолевающих порой невероятные трудности. Так было и в царское время, и в советское, это видим и теперь. Радует, что у нашей армии современное вооружение, снаряжение. И чувствуешь особую гордость, зная, что в их создание вложен труд наших учёных, конструкторов, инженеров.
Пользуясь случаем, хочу пожелать здоровья и долгих лет нашим ветеранам – в первую очередь всем, кто приближал Великую Победу! Преподавателям желаю хороших студентов. Студентам – прилежно учиться, овладевать знаниями, любить и беречь Россию!
Всем нам желаю мирного неба над головой! Пусть СВО кончится полной победой России!